ВОЗРОЖДЕНИЕ ЖИВОПИСЦА ИВАНА НИКИТИНА
(Продолжение текста Главы 1)
(с. 23)Для нас важнее то, что Д. А. Ровинский однозначно идентифицировал автора гравюры: это тот самый Иван Никитин, что учился у Шхонебека (ил. 6)26:
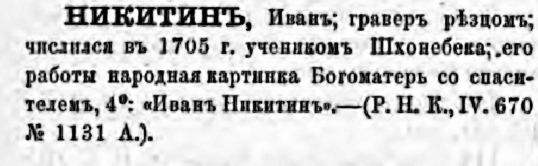
Ил. 6. Текст из труда Д. А. Ровинского
«Никитин, Иван; гравер резцом; числился в 1705 году учеником Шхонебека; его работы народная картинка Богоматерь со спасителем, 40: «Иванъ Никитинъ» — (Р.Н.К., IV. 670 № 1131 А.)»27. Д. А. Ровинский позиционирует здесь Никитина как гравера резцом, хотя данная доска — «картинка» травлена «крепкой водкой», то есть является офортом. Противоречие Указателя и основного текста, скорее всего, является недоразумением. Но не исключено, что Д. А. Ровинский располагал какими-то данными и о резцовых гравюрах Никитина. (К сожалению, он, как это водилось в публикациях исследователей XIX века, далеко не всегда указывал свои источники). А это могло означать, что молодой Иван Никитин в 1706–1711 годах, зарабатывая себе на жизнь, профессионально занимался гравюрой. С такой точки зрения можно предполагать, что лист «Богородица со Спасителем» был создан в период после Шхонебека. Подобный тезис небезоснователен по той причине, что стихоплетение душеспасительных вирш на экзаменационном листе выглядело бы, пожалуй, излишним. Напротив, они были бы чрезвычайно уместны на образе, продаваемом по доступным ценам в церквах его родственников. Такая практика в те времена была в обычае28.
Наконец, мы можем подступиться к отложенному вопросу — доказательству того, что гравюру «Богоматерь со Спасителем» создал не тезка и однофамилец, а сам вернувшийся из Амстердама молодой живописец Иван Никитин.
Задача была бы достаточно простой, располагай мы самим листом гравюры, а не только упоминанием о ней в источниках. Она должна была бы ярко выделяться своим рисунком на безрадостном фоне вещей всех прочих учеников Шхонебека. Увы, ее судьба неизвестна, а в XIX веке гравюра сохранялась, по всей видимости, в единственном экземпляре, — в собрании известного библиографа, библиофила и книгопродавца В.И. Яковлева29.
(с.24)Мы располагаем хотя и косвенным, но очень весомым указанием на высокие достоинства гравюры, резко выделяющие ее из ординарного потока тех времен. В. И. Яковлев был человеком высокой образованности. Но он не собирал специально гравюры. Его страстью были рукописи и редкие книги. Библиотека его состояла из старопечатных книг и редкостей «Геннадиевского» толка30. Тем не менее, он приобрел небольшое собрание гравюр, переплетенное книгой. О нем упомянул Д. А. Ровинский в предисловии в своему труду «Русские народные картинки», перечисляя самые значимые собрания гравюр, с которыми он работал:
«VII. Небольшое, но драгоценное собрание русских картинок Павла Григорьевича Демидова, принадлежащее В. И. Яковлеву. Все собрание переплетено в один большой том; в числе картинок, гравированных на дереве, находятся пять уников; в числе гравюр на меди есть тоже много весьма замечательных; две из них: «поучения Ефрема Сирина и притча жития человеческаго в лицах», тоже уники».
Обладавший огромным состоянием, Павел Григорьевич Демидов (1739-1821), внук Акинфия Никитича и сын Григория Акинфича Демидовых, был образованнейшим человеком своего времени, ученым и путешественником, меценатом и собирателем. Так, в 1806 году он пожертвовал Московскому университету свой минц-кабинет, состоявший из нескольких тысяч монет и медалей. Он, проживший достаточно долго в Европе, конечно, хорошо разбирался в искусстве.
Поэтому можно не сомневаться, что свое «небольшое, но драгоценное собрание русских картинок» он составил из действительно замечательных листов.
Подведем некоторые итоги. Строго говоря, пока мы установили личность «Ивана Никитина» с достаточно высокой вероятностью, но еще не идентифицировали окончательно. Да, в 1705 году в Оружейной палате в команде Шхонебека числился человек, которого так звали. Он не принадлежал к техническому персоналу и обучался технике гравирования. Им полностью самостоятельно создана по крайней мере одна гравюра. Она — на евангельскую тему: «Богоматерь с Христом», размером in quarto. Вещь подписная: «Иван Никитин». Гравюра могла быть предъявлена в Оружейной палате в 1705 году как экзаменационная работа. Вместе с тем, Иван Никитин мог создать эту не датированную вещь и после того, как покинул гравировальную команду.
Гравюра не была наивной ученической штудией. Напротив, она обладала значительными художественными достоинствами, раз входила в узкую коллекцию высокого уровня Павла Григорьевича Демидова. Ее преимущества не состояли в техническом совершенстве гравирования: у Ивана Никитина за короткое время пребывания у Шхонебека не было возможности его достичь. Скорее всего, П. Г. Демидов отличил гравюру по высоким качествам композиции и рисунка. Такое было, как мы видели, совершенно не свойственно ни самому Шхонебеку, ни, тем более, любому из его учеников. За исключением обучавшегося в Амстердаме живописца Ивана Никитина.
Поэтому мы посчитаем «Богоматерь с Христом» с надписью «Иван Никитин» первым не умозрительным, а «вещественным» аргументом в подтверждение нашей гипотезы о времени и обстоятельствах возвращения Ивана Никитина из Амстердама в Москву.
(с. 25)Но существует второй, еще более материальный, аргумент, который в сумме с предыдущим образует формальное доказательство справедливости данной краеугольной гипотезы.
Вернемся в мастерскую Шхонебека и изучим альтернативную гипотезу: о создании Иваном Никитиным в 1705 году еще одного произведения — в виде рисунка на доске, гравированного затем Шхонебеком. Она правдоподобна, поскольку голландский гравер при получении ответственного царского заказа охотно прибег бы к помощи талантливого юноши в роли инвентора.
Конечно, продукт такого сотрудничества по обычаю тех времен будет подписан одним именем: мэтра-учителя. На некоторых офортах Шхонебека в разной транскрипции есть надписи типа: «рисовал и гравировал Шхонебек» (del.
et fecit). На других листах, судя по сюжетам, его же работы, не указаны имена ни рисовальщика, ни гравера. На третьих кратко: «гравировал Шхонебек» (fecit или, по-русски, «грыдоровал»), что допускает участие в работе стороннего рисовальщика. Поэтому именно эти листы мы отберем для дальнейшего изучения31.
Нам предстоит доказывать, что нанесенный на соответствующую медную доску рисунок не принадлежит Шхонебеку. Иными словами, показать, что в листе с подписью Шхонебека очевидны черты, категорически не свойственные обычной практике этого плодовитого гравера, для которого сложный ри- сунок, как помним, отнюдь не был самой сильной стороной. Если таковые качества обнаружатся, то настанет момент истины, решающего испытания. Мы будем искать в них руку именно молодого Ивана Никитина. И отнюдь не только в следах его недавнего амстердамского ученичества. Ведь у Ивана, как мы знаем по более поздним работам, был яркий природный дар, совершенно недоступный любым другим художникам тех времен. Был особый талант тонкого наблюдателя, совершенно оригинальное образное мышление и склонность к неожиданным поворотам в изображении сюжетов. Быть может, обнаружатся и приметы того ключевого «метода знаковых символов», который мы видели в его зрелых произведениях. То есть искомые нами работы должны резко выделяться среди всех гравюр Адриана Шхонебека и его учеников.
Такова была наша стратегия поисков, которая привела к изложенным ниже результатам.
1.7. Гравированный портрет Шереметева (с. 25-28)
Нашей следующей задачей будет показать, что в 1705 году в Москве тандемом Никитин — Шхонебек были созданы две гравюры. Это портреты Петра I и фельдмаршала Б. П. Шереметева. Оба листа принципиально отличаются от всех работ, произведенных в Москве Шхонебеком и его школой, причем целым рядом признаков.
Прежде всего отметим их уникальность в том отношении, что других парадных портретов мастерская голландца не произвела. Обе гравюры представляют собой изображения героев в традиционных для парадного портрета авантаж-
ных позах. Далее, и на том, и на другом эстампе присутствуют важная особенность, которой нет ни на одном ином листе (с. 26)Шхонебека: надпись о том, что обе они созданы по личному повелению Петра I. Но в этих двух вещах есть и куда более существенные качества, выделяющие данные гравюры в совершенно особую группу среди всех листов Шхонебека и его учеников.
Начнем с гравированного портрета Шереметева (ил. 7)32.

Ил. 7. Гравированный портрет Шереметева. ГМИИ (из собр. Д.А Ровинского). № 2133.
Эстамп этот — подписной: «Повелениемъ црскаго Величества. Тушевалъ На москве Адриан Шхонебек.»
Но вот что пишет об этой подписи Д. А. Ровинский: «С боков второй строки этой подписи видны следы другой подписи (с другими титулами), прежде находившейся на доске и стертой. Гравюра сделана после 1702 года»33. Не правда ли, странная особенность этого листа, уникальная для всего наследия Шхонебека и его школы34. Д. А. Ровинский указал и на то, что портрет Б. П. Шереметева есть «единственная известная гравюра черной манерой, сделанная Шхонебеком в России…».
Но этот эстамп содержит и еще более удивительные вещи. Посмотрим на центральную фигуру. Как это ни странно для парадного портрета, тяжелое лицо фельдмаршала совсем не горделиво. Напротив, горькие складки у рта выдают как будто затаенную обиду. Вяловатый жест руки кажется не завершенным, и он посылает воинство не в том направлении, куда устремлен взор полководца. К тому же фельдмаршал немного косоглаз. Такая деталь, будь она даже правдива, совсем не обязательна на парадном портрете. Если, конечно, художник не ставит своей целью вконец рассориться с моделью.
Плюс ко всему, «парадный портрет» кажется чрезмерно перегруженным бытовыми образами второго плана, которые не добавляют величавости герою. Конюх и лошадь, чумазый слуга, стыдливо полуприкрытый шляпой в опущенной руке фельдмаршала, как нечто позорное, — образы, как будто принадлежащие другим, жанровым, сюжетам. Все они смотрятся неуместными в парадном портрете победоносного фельдмаршала. Не менее странными выглядят и небеса. В них — не трубящая славу Фама, даже не облако, но тяжелая темная туча, готовая вот-вот навалиться сверху и придавить полководца. А из-за его плеча выступает горбоносая голова коня с почти человеческими глазами, тогда как прочая часть лошадиного тела уже поглощена наплывающей тучей.
Списать же все кажущиеся неувязки на полную бездарность неумехи — рисовальщика не получится. Для этого его рука слишком тверда при изображении второстепенных персонажей. Фигуры слуг нарисованы уверенно, живо, их черты выразительны и индивидуальны, а поза конюха-денщика столь непринужденна и естественна, что кажется несомненной зарисовкой с натуры.
Не менее интересна, как увидим, и позиция второго слуги. Именно фигура денщика, изготовившегося к движению, поднимает завесу над подлинной темой рисовальщика. Из-под его карандаша выходит не заказанный парадный портрет, а некая сцена под названием «К отбытию фельдмаршала…». Направление предстоящего перемещения полководца определяет его указующий перст — к местам будущего штурма некой цитадели.
Но какие необычные события окружали его отъезд? Быть может, они объяснят нам присутствие на «парадном портрете» таинственной плюгавой личности, каковую высокородный боярин стыдливо полуприкрыл шляпой в опущенной руке?
(с. 28)Да, много странных особенностей у парадного портрета Бориса Петровича Шереметева. Так много, что их случайное совпадение представляется невероятным. Для него должно существовать какое-то рациональное объяснение.
Оно на поверхности. Достаточно сопоставить эту гравюру со всем рядом известных работ Шхонебека, выполненных в Амстердаме и, позже, в Москве, чтобы прийти к очевидному выводу: подобный «жанровый» рисунок к грави-
рованному портрету Шереметева создан не Шхонебеком. Мышление автора композиции абсолютно чуждо прозаическому голландцу с его «техническими» или традиционно — помпезными гравюрами, полными схематических
фигурок. С еще большей уверенностью следует исключить его учеников, братьев Зубовых и Питера Пикарта, пасынка Шхонебека. Других, хоть сколько-нибудь достойных, учеников у Шхонебека просто не было.
Такая логика вещей склоняет к выводу о том, что рисунок к гравюре выполнен Иваном Никитиным, вернувшимся в Москву тех первых лет XVIII века. У нас есть возможность доказать этот тезис достаточно простым способом: убе-
диться, что он объясняет все отмеченные выше «аномалии» в гравюре, и по отдельности, и в их совокупности.
То есть доказать, что персонажи второго плана, полускрытая фигура коня, тяжелая туча с ее завихрениями странной формы, — суть ничто иное, как уникальные никитинские «фантомы», превращающие парадный портрет в развернутое повествование. Для этого нам следует доказательно определить истинное предназначение указанных загадочных образов.
Первым шагом к тому будет реконструкция исторического контекста создания «портрета» Шереметева. Начать следует, конечно, с определения момента получения Шхонебеком царского заказа на гравированный портрет фельдмаршала.
Предположим, что гравер и торговец Шхонебек, практично совмещая два поручения царя, действительно передоверил Ивану Никитину создание эскизного рисунка к заказанному парадному портрету Шереметева. Его работа попутно явится испытательным тестом по результатам заморского обучения. Необходимым условием этого события является одновременное присутствие в Москве в то военное время трех лиц: государя, еще здравствующего
Шхонебека (до 1706 года) и вернувшегося из Голландии Никитина (около 1705 года).
К тому же монаршее повеление создать тиражируемый образ полководца давалось, несомненно, в ознаменование воинских побед генерал-фельдмаршала. Их исчисление определит искомую дату. Все сказанное означает, что нам
предстоит сделать краткий обзор событий 1700–1705 годов, включив в него и те факты, которые дают представление о чертах личности Б. П. Шереметева, известных его современникам, в том числе, возможно, и создателю образа полководца на данной гравюре.
1.8. Фельдмаршал Б. П. Шереметев в 1700–1705 годах (с. 28-34)
(с. 29)В 1700 году в бою под Нарвой Борис Петрович командовал дворянской конницей и лично возглавил ее бегство в поля битвы. Но через год после сражения под Нарвой, 29 декабря 1701 года, он сокрушительно разгромил шведов в битве у мызы Эрестфер. Извещение о победе боярин отправил 2 января «с сынишкою своим Мишкою». Четвертого января 1702 года войска возвратились в Псков, где в честь победителей «после молебного пения из пушек и из мелкого ружья за щастливую викторию стреляли». А в Москве, впервые с начала Северной войны, в честь победителей раздались пушечная стрельба и звон колоколов, народ угощали вином, пивом, медом. Но сам Шереметев в Москву за почестями и для возможного портретирования не выезжал. В Псков с наградами отправлен был поручик Меншиков. В честь той победы Борис Петрович, как известно, был удостоен звания генерал-фельдмаршала и ордена Святого Андрея Первозванного.
Однако, битва у мызы Эрестфер шла в поле, там не было штурма какой-либо крепости. Подробности первой после Нарвы победы были в Москве у всех на устах. И мы приходим к выводу, что данная гравюра, где такой штурм обозначен, не может иметь отношения к успеху военачальника конца 1701 года.
Продолжая действовать против войск Шлиппенбаха, он одержал победу над ним под Гуммельсгофом в июле 1702 года. Потом после двухмесячного похода удалось захватить крепости Мензу и Мариенбург. При взятии Мариенбурга в числе пленных оказалась и Марта Скавронская (будущая супруга Петра I, затем императрица Екатерина I). В сентябре полководец с войском вернулся в Псков, он привел с собой множество пленных вражеских солдат и офицеров,
а в обозе — 51 орудие и 26 шведских знамен.
Но эти успехи имели лишь тактическое значение. Две крепости, Нотебург и Ниеншанц, контролировали течение Невы, закрывая русским выход к морю. Овладение ими явилось стратегическим успехом, после которого, в 1703 году,
и вся Ингрия — Ингерманландия оказалась завоеванной русскими войсками.
Это надлежало, конечно, отпраздновать. И 4 декабря 1702 года победы в Ингрии и овладение Нотебургом были отмечены торжественным шествием войск через трое триумфальных ворот, сооруженных в Москве. (Сам Шереметев не принимал участия в празднествах, так как прибыл в столицу лишь в конце декабря — начале января 1703 года). То был апогей его военной карьеры и славы. Признательность и доверие государя к фельдмаршалу достигли своего пика. Быть может, именно в этот момент решил государь с размахом отметить заслуги русского полководца, оповестив о них своих подданных гравюрой с парадным портретом победоносного фельдмаршала?
Но этого точно не произошло. Сохранился указ Петра об участии Оружейной палаты, к которой был причислен Шхонебек, в подготовке тех торжеств: «1702 г. дек.. в 31 д., великий государь … указал, для триумфального торжества, взятия ради Свейского города Нотенбурга, которой ныне проименован Шлисельбург, убрать башню водовзводную по ярусам круглым…» — далее следует детализация многочисленных заданий палате, среди которых нет упоминание о (с. 30) гравированном портрете фельдмаршала35. Все сомнения на этот счет устраняет расходная роспись Оружейной палаты за 1703 год. В ней отмечены всех расходы Шхонебека и выплаты ему по представленным счетам. Там голландец скрупулезно перечислил все награвированные им листы. Среди них нет портрета Шереметева36.
Этому не стоит удивляться, если принять во внимание, что главноначальство Шереметева при штурме Нотебурга и Ниеншанца было чисто номинальным. Вся страна прекрасно знала, что победы добывались под фактическим
командованием самого Петра I. К тому же упомянутые торжества отличились своей умеренностью. По той, вероятно, причине, что в глазах царя достижения 1702–1703 годов были всего лишь промежуточными и неустойчивыми, а пауза в военных действиях объяснялась неизбежным отводом войск на зимние квартиры. Стратегической же целью, не достигнутой в те месяцы, была гарантированная безопасность крепости Санкт-Петербург, заложенной в устье Невы. Для чего следовало: изгнать шведа из всей Ингерманландии, под которой Петр I понимал целиком Приневский край, затем, двинувшись дальше, в Эстляндию, взять Дерпт и, наконец-то, Нарву. Вот тогда-то были бы оправданы самые пышные празднества и раздача самых больших вознаграждений.
Решающие военные успехи прибалтийской кампании — овладение Дерптом и Нарвой — состоялись в следующем, 1704 году, том самом, когда по нашему предположению вернулся в Москву из Голландии повзрослевший Иван Никитин. Только теперь конечные цели военной кампании были достигнуты: выход России к морю открыт, а опорная крепость защищена еще на дальних подступах.
И 9 февраля 1705 года Петр I, в подражание римским императорам, организовал «триумф», — торжественный въезд в Москву. В нем понуро участвовали 19 пленных офицеров, во главе с самим комендантом Нарвы, генерал-майором
Р. Горном. Еще в Нарве Петр I сделал личность обер-коменданта знаковой, посадив его в тот самый каземат, куда Горн для примера заточил комендантов Нотебурга и Ниеншанца, ранее сдавшихся русским крепостей. Вот когда пришло время шумных празднеств, раздач щедрот и почестей.
Не тогда ли появился и заказ на портрет Шереметева? Увы, фельдмаршал был чужим на том пиру, точнее, совсем там не был. Дело в том, что у Петра I не было оснований как-то отличать боевые заслуги главнокомандующего в прошедшей
кампании 1704 года. Она сложилась для того без блеска.
Два года войны — 1704 и 1705 — были морально очень трудными для Шереметева. Боярину были свойственны медлительность и осмотрительность старомосковских воевод, качества похвальные, но не при любых обстоятельствах. Он был совершенно неспособен на дерзкий риск, мгновенное принятие решений и стремительный натиск, качества, приносившие военные успехи А. Д. Меншикову. Его нерасторопность при осаде Дерпта стоила ему непоправимой потерей
расположения и, что еще важнее, уважения царя к его способностям военачальника. Перемены особенно для него болезненные — после ослепительных лич- ных успехов 1700–1703 годов, приведших к завышенной самооценке.
(с. 31)Вероятно, это вовремя почувствовал Петр I, и в кампании 1704 года он разделил русскую армию, вверив часть ее наемнику-иноземцу Г. Б. Огильви с долго произносимым чином «генерал-фельдмаршал-лейтенант». Такое сложно-
составное звание означало, что не он, а просто «генерал — фельдмаршал» есть более главный фельдмаршал. Собственно, и на своей предыдущей — австрийской — службе Огильви имел чин фельдмаршала-лейтенанта, а в договоре о найме на русскую службу, заключенном им по инициативе Паткуля, оговаривалось его подчинение более главному фельдмаршалу, то есть Б. П. Шереметеву.
Огильви прибыл в Москву в мае 1704 года, а 20 июня того же года появился у стен Нарвы и был немедленно назначен царём главнокомандующим над армией, которая в то время осаждала крепость. Риск такого решения был минимален, поскольку в войсках под Нарвой был сам Петр I. Шереметев же должен был добыть менее ценный приз, Дерпт, с меньшим войском, за которым, тем не менее, было сохранено наименование Большого полка.
Когда осада Дерпта недопустимо затянулась, царь спешно оправился в лагерь к Шереметеву. Ознакомившись на месте с ходом осадных работ, государь не скрыл своего недовольства. «Все негодно, и туне людей мучили». В лагере осаждавших с приездом царя началась перегруппировка сил, связанная с изменением направления главного удара, и после«огненного пира» в ночь с 12 на 13 июля город сдался. Почти вся шведская артиллерия (132 пушки из 133) досталась в исправном виде русской армии. Царь приказал отчеканить памятную медаль «На взятие Дерпта», но вряд ли распорядился увековечить заслуги главнокомандующего, повелев гравировать его парадный портрет37.
Сам Петр I выехал к Нарве уже 17 июля, захватив с собой трофейные знамена. Царь спешит, Нарва ещё с 30 мая обложена русскими войсками, им нужна помощь. Но Шереметев не торопится. Петр I отправил ему один за другим три указа о немедленном выступлении из Дерпта, но фельдмаршал не двинулся с места.
Таких вещей государь не прощал. 23 июля он уже четвёртый раз со дня падения Дерпта указывает медлительному, но основательному Б. П. Шереметеву «днём и ночью итить (к Нарве)». «А есть ли так не учинишь, не изволь на меня
пенять впредь». Последняя фраза звучала уже прямой угрозой. 24 июля Александр Данилович Меншиков прочитал следующие строки письма Шереметева:
«А я останусь на день для крайней своей болезни и велю себя как ни есть волочь… Зело я, братец, болен и не знаю, как волотца, рад бы хотя мало отдохнуть».
Тем временем под Нарвой, после возвращения Петра I, началась подготовка к решительному штурму и массированная бомбардировка крепости. В итоге 9 августа 1704 года крепость Нарва была взята штурмом. Смыт великий позор
поражения 1700 года. Но фельдмаршал участия в штурме Нарвы не принимал, и в честь ее взятия не был удостоен никаких наград.
19 августа 1704 года под стенами отвоеванной Нарвы был заключен русско-польский союзный договор, определивший на ближайшие годы главное направление военных действий русской армии. Выполнение условий договора повлекло перемещение театра военных действий из Ингерманландии в Литву. Шереметев получает указ от 16 ноября 1704 года: «когда реки станут», отправиться во главе конницы против шведского генерала Левенгаупта.И отправляет слезливое письмо Меншикову.
(с. 32)Фельдмаршал жаловался на утрату царского расположения: «Всем милость, а мне нет!» Овладение Дерптом и Нарвой сопровождалось раздачей вотчин, а он, Шереметев, обойден — ни вотчин, ни даже жалованья. Далее следуют фразы, свидетельствующие о взаимоотношениях между аристократом Шереметевым и безродным выскочкой Меншиковым: «У тебя милости прошу: если уж вотчин, обещанных мне, не дадут, чтоб мне учинили оклад по чину моему»38. А для себя мы сделаем вывод, что о ни о каком царском заказе Шхонебеку на портрет фельдмаршала по итогам кампании 1704 года не могло быть и речи.
Борис Петрович отвечает царю 26 ноября: «Пойду изо Пскова немедленно». И опять он медлит, и снова его бездействие вызывает гнев Петра I. Шереметев выехал из Пскова только в последних числах декабря и прибыл в Витебск три недели спустя. Отношение Петра I к Борису Петровичу с момента осады Дерпта стало в основном официальным, причем царь с этого времени старался подчи- нить его действия строго только изданному приказу.
Тогда и Шереметев стал объяснять свою медлительность отсутствием прямых царских указаний. 14 февраля 1705 года, из Преображенского, Петр I пишет ему письмо «зело ругательное»: «..а ты будто по указу нашему никуда итить не смеешь. И о том зело удивляюсь, ибо я писал вам прежде, чтоб вы как возможно над неприятелем промысл чинили…»39. Прочел Шереметев и такие царские строки: «И сие подобно, когда слуга, видя тонущего господина, не хочет его избавить, дондеже справитца, написано ль то в его договоре, чтоб его из воды вынуть».
А из Литвы, уже через пару месяцев после прибытия, фельдмаршал извещает Петра I о своем заболевании, вызванном душевным расстройством. Причиной ему был все тот же Огильви. Тот также был послан в Лифляндию, и опять
Петр I разделил командование, оставив за Шереметьевым лишь начальство над конницей. Фельдмаршал слёг, сообщив царю, что недуг его от печали. Положение сложилось серьезное, ведь речь шла не о каких-то придворных капризах и кознях, а о дезорганизации в руководстве войсками на дальних рубежах,во время войны.
Уточним последовательность тех драматических событий. 26 февраля в Витебск из Москвы прибыл с инспекцией к действующей армии и полномочиями губернатора А. Д. Меншиков, доставивший указания Петра I по разделению
командования войсками. Собравшись с мыслями, Шереметев 3 марта написал царю40: «…получил я от ево честности принять руки твой указ о пехотных полках; и я рад вседушно волю твою, премилостивейшаго моего государя, исполнять, толко принеслась мне печаль, и от той печали и в болезнь пришел, на что самовидец ево милость губернатор».
Требовалось, очевидно, срочное вмешательство Петра I. Но находившийся в Воронеже царь не мог тотчас пуститься в дальний путь. Петр I принимает необычное для себя решение — о временной отмене своего указа о разделении командования, с сохранением верховенства за Шереметевым — до собственного прибытия к войскам. В письме от 14 марта 1705 г. он информирует Меншикова о казусе Шереметева, и поручает растолковать тому рациональность своего решения: «…и печалитца Борису Петровичу не для чего, потому (как ты сам ведаешь) у высоких генералов не бывает определения, но по случаю времяни командуют болше и менше, также иногда конными иногда пешими»41.
(с. 33)В тот же день, с тем же курьером царь послал удивительно мягкое письмо занемогшему от обиды фельдмаршалу: «Письмо ваше я принял, из катораго увидел вашу печаль, о которой воистинну жаль мне, что напрасно, и зделано не для
какова вам оскорбления, но ради лучшего управления, о чем пространнее будет вам доносить ваш товарищ (Меншиков. — В.Г.). Однакож за тем вашим сумнением я остановил это дело до своего приезду, а велел быть по старому»42.
Мы подробно описали этот эпизод с тем, чтобы показать необычно снисходительное, даже бережное отношение царя к русскому военачальнику, принесшему первую победу над шведом, столь необходимую после нарвского разгрома, — несмотря на все недовольство его медлительностью. Петр I, хорошо понимавший природу людскую, всячески щадил его самолюбие.
Доказательством тому служит не только приведенный эпизод. После взятия Нарвы по указаниям Петра I был написан Юрнал нарвской победы, предназначавшийся для широкого чтения. Там, естественно, нет описания заслуг Шереметева, зато дважды хвалебно назван Огильви с упоминанием того же чина, что и у Шереметева: генерал-фельдмаршал. Петр I, правивший Юрнал, своей рукой восстановил надлежащую иерархию, дважды добавив к титулу Огильви слово «лейтенант» (из ст.-немецкого Leutenant, «заместитель», в свою очередь из французского из французского lieu tenant, «держащий место»).
О многом говорит и письмо, написанное Петром I Шереметеву после получения царем известия о сражении 15 июля 1705 года у местечка Гемауэртгоф (Мур-мыза). (Там шведы под командованием генерала А. Л. Левенгаупта нанесли весьма чувствительное поражение русскими войсками под началом генерал-фельдмаршала Б. П. Шереметева). В нем нет упреков. Отдав необходимые указания, Петр приписал слова, ставшие знаменитыми:«Також не изволте о бывшем нещастии печальны быть(понеже всегдашняя удача много людей ввела в пагубу), но забывать и паче людей ободривать». А завершил послание так: «…При сем посылаю к вам известие о доброй виктории, которую мы полу-
чили из Питербурга. Piter. Из Вилни, в 25 день июля 1705»43.
Отношение дальновидного царя к Шереметьву определялось, разумеется, прежде всего практическими соображениями. Его следовало сохранять в надежном резерве, ведь он единственный из русских генералов, имеющий опыт
самостоятельного и в целом успешного главнокомандования войсками. Хотя Петр I и назначил позднее в том, 1705-м, году шотландско-моравско-австрийского наемного военачальника Георга Бенедикта Огильви главнокомандующим русской армией в Речи Посполитой (главные силы армии располагались в Гродно), он не мог не видеть своеволие ветерана битв за испанское наследство и его личную конфликтность. Это было опасно, поскольку Пётр I основную часть времени проводил вне армии, и Огильви должен был действовать самостоятельно. А у этого генерал-фельдмаршал — лейтенанта тотчас начались раздоры с русскими генералами, с А. Д. Меншиковым, который, командуя кавалерией, игнорировал или оспаривал приказания главнокомандующего. А в доверительной переписке с царём состоял именно Меншиков, который убеждал Петра I в собственной правоте.
(с. 34)Но все это события будущего, а в июле 1705 года необходимость отстранения Шереметева и сосредоточения командования в руках Огильви представлялась, вероятно, Петру I очевидной. Но как отстранить Шереметева, не задевая его самолюбия? Только дав ему другое почетное поручение. Как увидим, в тот неспокойный год не пришлось долго
ждать подходящей оказии для благопристойного удаления Бориса Петровича с театра военных действий.
Подведем краткие итоги действий фельдмаршала в 1700–1705 годах. Огромное значение имела первая после Нарвы победа русских войск под единоличным командованием Шереметева в сражении под Эрестфером, происшедшая в самых последних числах декабря 1701 и 1 января 1702 г.
Следующим крупным успехом русских войск в 1702 году было взятие Нотебурга, но штурмом фактически командовал не Шереметев, а сам Петр I. В 1703 году русские овладели крепостью Ниеншанц на правом берегу Невы (у впадения речки
Охты в Неву). И опять войсками руководил сам государь. То же самое происходило и в 1704 году при штурме Дьерпта. Действиями же Шереметева в 1704 году — первой половине 1705 года Петр I частенько был недоволен.
Следовательно, в промежутке времени 1700 — первая половина 1705 года единственным большим личным успехом фельдмаршала, который мог побудить царя повелеть гравировать его парадный портрет, была победа под Эрестфером в январе 1702 года, за которую он был награжден званием генерал — фельдмаршала44. Но это сражение, повторим, происходило в чистом поле, там не было штурма городских стен, подобного тому, который мы видим на втором
плане гравюры.
Нам ничего другого не остается, как выйти за пределы 1705 года. Зато в следующем, 1706 году действительно состоялся личный триумф полководца, когда он после бомбардировки и штурма овладел русским городом Астрахань. За подавление восстания тамошних стрельцов и жителей он был особо отмечен Петром I. Одна из царских наград 1706 года известна, она была вещественна и весома, в количестве 2400 дворов. Можно допустить, что к ней было прибавлено и поощрение морального порядка — в виде заказа на парадный портрет победоносного военачальника, сокрушившего неприятеля.
Но при таком предположении возникает затруднение хронологического порядка. Выбору 1706 года как времени, когда данную гравюру «тушевал на Москве Адриан Шхонебек», противоречит общепринятая сегодня дата смерти Шхонебека — 1705 год. Но, как показывают расходные росписи Оружейной палаты за 1705 год, уход Шхонебека произошел не раньше второй половины 1705 года, возможно, ближе к его концу, возможно даже в начале 1706 года45.
Такая хронология допускает, что заказ на портрет Шереметева поступил к Шхонебеку в 1705 году, в первой фазе похода фельдмаршала на город Астрахань: Петр I поручил ему подавить астраханский мятеж в конце лета 1705 года.
Найти аргументы в поддержку этого тезиса поможет изучение подробностей астраханского дела Шереметева.
1.9. Подавление восстания стрельцов в Астрахани (с. 35-37)
(с. 35)Летом 1705 года в ставке царя было получено известие, всколыхнувшее в нем недобрую память: в Астрахани вспыхнуло восстание стрельцов. Из скупых строк донесения, отправленного из Москвы Борисом Алексеевичем Голицыным, следовало, что восставшие стрельцы и поголовно примкнувшие горожане перебили около 300 начальных людей и вознамерились идти на Москву46. Восстание легко могло распространиться на приволжские области. Получив известие о мятеже в Астрахани, царь велел Б. П. Шереметеву его подавить.
Формальный указ был издан не позже 12 сентября 1705 года, и Петр I писал в Москву, что бывший при армии Шереметев «с конницею к вам будет в две недели». Фельдмаршал не спеша, как и все, что он делал, начал подготовку к походу. Царь его торопил, рассчитывая, что опытный военачальник быстро приведет толпу бунтовщиков в надлежащее смирение: «Для Бога не мешкай, как обещался, тотчас пойди в Казань», откуда надлежало двинуть войско по Волге на Астрахань. Не очень надеясь на расторопность Шереметева, царь в тот же день, 21 сентября, отправил указ и Ф. Ю. Ромодановскому с предписанием: «…как прибудет господин фелтьмаршал к Москве, чтоб немедленно его со удовольством людей отправить в Казань».
Опытный в походных делах Шереметев прибыл в Москву почти на месяц позже — 20 октября, когда спешить было уже некуда. Холода были на пороге, а два полка, выделенные для подавления восстания, передвигались еще медленнее начальника и находились далеко от Москвы. Подоспело осеннее бездорожье. «Путь застал злой, — сообщал Шереметев Меншикову 2 ноября, — ни саньми, ни телегами итить нельзя». Так что пока перемещаешься от Москвы к Казани, может случиться на Волге ледостав.
Фельдмаршал рассчитал все правильно. В Москве он задержался до середины ноября и в Нижнем появился в конце месяца. Достичь Казани ему удалось к 18 декабря, здесь войску предстояло зимовать. Но он-то тут зачем? И стал
просить о своем отзыве из Казани в Москву, не прямо царя, а через Ф. А. Головина: «Только прошу, — писал Шереметев Головину 28 декабря, — учини и мне братцки, как возможно, домогайся, как бы ни есть меня взяли к Москве, хотя
на малое время». Уже через неделю он послал повторную просьбу.
И тут терпение Петра I, наконец, истощилось. Шереметев получил разрешение ехать, но не на отдых в Москву, а к Саратову, переждать там зиму и «по весне рано итить до Царицына». Этот указ царя был крутым, но для знавших
Петра I вполне ожидаемым. Зато сопровождавшее его повеление, ставшее прецедентом, должно было потрясти Шереметева и поползти слухом по Москве.
К знаменитому фельдмаршалу, родовитому боярину, при выполнении его полководческой миссии, в качестве соглядатая и толкача, был приставлен гвардейский сержант.
И в ставке Шереметева в Казани появился гвардии сержант Михаил Иванович Щепотьев с таким царским указом: Щепотьеву «велено быть при вас некоторое время; и что он вам будет доносить, извольте чинить». Сержанту же
была дана царская инструкция: «…смотреть, чтоб все по указу исправлено было, и, буде за какими своими прихоти не станут делать и станут да медленно, говорить, и, буде не послушает, сказать, что о том писать будеш ко мне». Борис Пе-
трович жаловался своему свату Ф. А. Головину на сержанта Щепотьева:
(с. 36)«Он, Михайло, говорил во весь народ, что прислан он за мною смотреть и что станет доносить, чтоб я во всем его слушал. И не знаю, что делать»47. Сержант имел право прямой переписки с государем, более того, через него передавались указания фельдмаршалу. И они были весьма знаменательны.
В тот момент страна ждала вражеского вторжения, поэтому Петр I настоятельно желал завершить астраханское дело мирным исходом. Об этом свидетельствует многократно повторенное предписание царя проявлять к повстанцам великодушие. На вопрос Щепотьева, как поступить с черноярцами, если они принесут повинную, царь ответил: «…не точию делом, ни словом жестоким к ним поступать под опасением живота».
Шереметеву было велено поступать с астраханцами так: «…всеконечно их всех милостию и прощением вам обнадеживать; и, взяв город Астрахань, отнюдь над ними и над заводчиками ничего не чинить». Для миролюбивых надежд у царя были все основания: бунтовщики были готовы одуматься и выделили людей для переговоров об условиях покаяния.
И вот тут-то опять проявились малопрятные черты личности Б. П. Шереметева. Он не мог не видеть всей мудрости предписаний государя, стоящего за ними державного расчета. Последовавшие действия военачальника трудно расценить иначе, как саботаж государственного интереса по причинам личного порядка. Фельдмаршал сознательно провоцировал обострение обстановки и толкал восставших на противодействие правительственным войскам.
Он игнорировал просьбы повстанцев воздержаться от входа в город до ожидавшегося возвращения делегации с грамотой царя, прощавшей им все вины. Фельдмаршал, напротив, форсировал занятие Астрахани под тем предлогом, что ему якобы стало известно о замысле повстанцев разрушить и поджечь город, а затем уйти в Аграхань. Город был подвергнут бомбардировке и взят штурмом. Цена тому — большая кровь и пожары.
Утром 13 марта из ворот Белого города вышли старшины, урядники и рядовые всех полков. Фельдмаршал приказал им сдать оружие. Астраханцы в знак покорности вынесли к Вознесенским воротам топор и плаху. У кремля встречал фельдмаршала митрополит. Шереметьев, приняв у него печать и ключи города, объявил астраханцам с высокого крыльца Приказной палаты, что по указу Петра I вина их предается забвению и что отныне они по-прежнему должны верно служить царю. Однако вслед за дарованной царской «милостью» последовали репрессии. Постепенно число арестов возрастало.
Астраханцы стали проявлять недовольство, и тогда Шереметьев перешел к ре-
шительным карательным мерам48. Только в мае были арестованы 273 человека. Страшной казни — колесованию — были преданы 6 человек, в том числе И. Шелудяк. 72 участника восстания были обезглавлены, 242 человека повешены, 45 человек умерли от пыток. Многие повстанцы оказались в Сибири. «Всего колесовано, казнено и померло
365 человек»49.
(с. 37)Пожиже, конечно, чем при казнях стрельцов 1699 года, но все-таки достаточно, чтобы впечатлить какого-нибудь юношу, выросшего в Амстердаме.
Действия Шереметева вызвали неодобрение Ф. А. Головина. В письме царю он считал, что «великую безделицу зделали», и сетовал: «Токмо тово жаль, что зделанное испорчено»50.
Шереметев, не уверенный в реакции Петра I, избрал уже опробованную тактику: он занемог в покоренном русском городе. «За грехи мои пришла мне болезнь ножная: не могу ходить ни в сапогах, ни в башмаках; а лечиться не у кого.
Пожалуй, не оставь меня здесь», — просил он Головина.
Стоило, однако, Меншикову объявить Шереметеву о пожаловании 2400 дворов, как тут же исчезли все симптомы болезни. Меншиков доносил царю, что фельдмаршал «зело был весел и обещался больше не болеть». Как видим, тя-
желая грозовая туча рассеялась, напротив, на Шереметева посыпались награды.
Вероятно, потому, что Петру I, как обычно, был ценен итоговый результат, достигнутый при минимальных расходах, и виды в тот момент на фельдмаршала.
Тот был возвращен на театр военных действий. Наконец, высочайшим указом от 1706 года генерал-фельдмаршал Б. П. Шереметев был первым в России возведён, с нисходящим его потомством, в графское Российского царства достоинство.
1.10. Глубинный сюжет гравированного портрета Шереметева (с. 37-41)
Вооружившись историческими сведениями, которые позволяют не только установить вероятное время создания портрета, но и воссоздать в основных чертах личность Б. П. Шереметева, сыгравшего видную роль в отечественной истории, вернемся к обсуждению изображения на гравюре (ил. 7). На листе присутствует формальное удостоверение нашей гипотезы о том, что художник создал образ не героического защитника отечества от внешнего врага, а усми-
рителя астраханских стрельцов и горожан.
Это доказательство образует упоминавшийся странный темноликий образ служителя справа от полководца. Как помним, в момент назначения на юг фельдмаршал был в подлинной немилости царя, потерявшего доверие к единоначальным действиям Шереметева. Поэтому астраханская миссия Шереметева была сопряжена с упоминавшимся колоритным распоряжением царя, учредившим гласный надзор над фельдмаршалом в лице сержанта Щепотьева. Его-то, несомненно, и отметил художник той таинственной фигурой, что стыдливо полуприкрыл шляпой боярин.
Со временем подобная мера мало кого будет удивлять, ибо по воле Петра I гвардейские сержанты и офицеры будут держать «в железах» губернаторов и понукать сенаторов, но в годы, о которых идет речь, такая практика была в диковинку. Слух о ней не мог не распространиться по Москве, поражая ее обитателей. Карликовая личность рядом с монументальной фигурой Шереметева, несомненно, символизирует неслыханный присмотр нижнего чина
за генерал-фельдмаршалом.
Присутствие фигуры сержанта показывает, что перед нами не тривиальный портрет, а сюжетная вещь, рисующая подоплеки астраханского похода Шереметева.
(с. 38)Более того, как увидим, в ней содержится вся тема ужасов кровавых подавлений стрелецких бунтов в первое петровское время. Неизбежные рассказы московской родни, повидавшей жуткие массовые казни стрельцов семилетней давности, не могли не вызвать эмоциональный отклик у юноши, выросшем в свободном Амстердаме.
Взглянем на внушительную центральную фигуру. Отметим давящую основательность в расширяющейся части его лица, жесткие складки у губ, медлительность не завершенного еще указующего жеста, обиду в тяжелом взгляде
в сторону.
Лицо Шереметева на гравюре, как утверждают, не имеет достаточного сходства с его сохранившимися изображениями. Значит, наш рисовальщик не работал с натуры. Он создал на гравюре образ, сложившийся в его сознании на основании мимолетного взгляда из толпы и ходивших по сведущей Москве рассказов. Тем интереснее сопоставить лица Шереметева на гравюре и на датированном 1710 годом парадном портрете Бориса Петровича из Кусково работы
неизвестного художника (ил. 8).

Ил. 8. Фрагменты гравюры и портрета Б. П. Шереметева в Кусково.
Там Шереметев всего на четыре года старше. Несколько расплывшееся лицо просто приятно, а легкий поворот головы и букли парика деликатно скрадывают его ширину и тяжесть подбородка. Банальный образ бонвивана, склонного к радостям стола, запоминается фигуристым мальтийским орденом, на ленте, ближе к животу героя. Теперь посмотрим на гравюру, на страшновато неподвижное лицо величественного покорителя астраханских стрельцов. Оно задерживает взгляд. Какой из этих образов соответствует истинному лицу фельдмаршала, чью деятельность в год создания гравюры мы только что описали?
Быть может, картина штурма крепости в правой половине гравюры соответствует эпизоду бомбардировки Архангельского кремля. Тогда нависшая над фигурой Шереметева черная туча, скрывающая коня, символизирует дым пожарищ, в которых гибнут люди, мелькают их обуглившиеся останки.
Теперь пригласим читателя взглянуть на коня, отметить его потрясающий, пронзительный взгляд. И, затем, —на тот туманный лик, что проступает непосредственно за головой коня (ил. 9).

Ил. 9. «Всадник апокалипсиса»
(с. 39)А там —призрачное лицо всадника в парике, пригнувшегося к конской гриве. И туча, поглощающая его тело, как и корпус коня, превращается в черный плащ этого всадника астраханского Апокалипсиса, готового рвануться в момент, когда полководец завершит рукой свой указующий жест. Это на нее, а не на лицо воителя, направлен напряженный взгляд сдерживающего коня ординарца.
Вот-вот ринется вперед черный Всадник, весь в клубах дыма от пожарищ, вестник ужасов войны и бойни. Этот фантомный образ и есть настоящее действующее лицо гравюры. На листе, над головами и Всадника, и Шереметева, неявно присутствует еще более масштабный и обобщающий, еще более страшный символ человеческой беды, образ вселенской людской горести. Сама туча смотрит на зрителя огромными глазами беды (указаны стрелками на ил. 10). То ли полными злобы. То ли боли. То ли молящие. То ли плачущие.
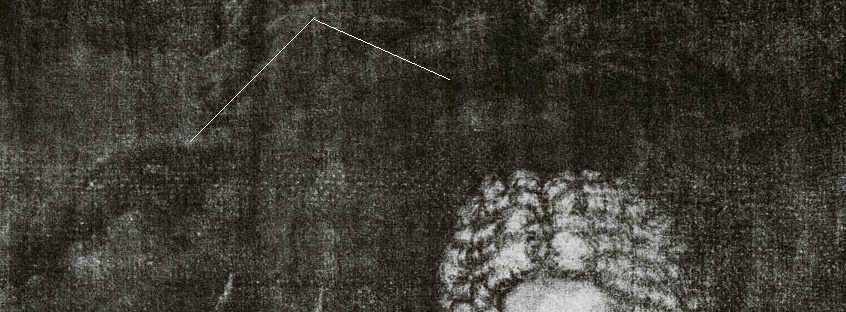
Ил. 10. «Глаза тучи».
(с. 40)Перед нами в этом раннем произведении развернулась вся мощь таланта рисовальщика, проявились все черты уникального дарования художника. Им в той точке времени и пространства не мог быть никто иной, как молодой Иван Никитин. Его сила не только в глубине и образности мышления, не только в изощренной изобретательности художника при выборе средств его отражения, но прежде всего в том, с какой потрясающей зрителя силой он их использует, создавая свои сюжеты. Эта гравюра —шедевр.
Правда, как всякий молодой гений, художник высокомерен. Он не считает нужным разжевать вам свои замыслы. Вот и в данном случае Иван Никитин не уважает своего заказчика, как, заметим, и умственные способности прочих возможных зрителей, современных или грядущих.
Сделаем еще несколько замечаний. Подавление Шереметевым астраханского восстания сопровождалось немалыми жертвами, но все же не той кровью, которой закончился предыдущий стрелецкий бунт. Поэтому образ его похода, запечатленный на гравюре, нам кажется излишне экзальтированным. Как будто гравюра создавалась не по реальным итогам его экспедиции, а перед ее началом, по дурным предчувствиям, навеянным ожившими воспоминаниями очевидцев страшных стрелецких казней на Москве. К моменту отправления Шереметева в поход подводит нас и позиция ординарца с конем в поводу. Но тогда время поступления Шхонебеку царского заказа на портрет Шереметева следует отнести к лету 1705 года, то есть периоду наибольшего царского неудовольствия поведением фельдмаршала. С какой стати заказывать его портрет? Покажем, однако, что здесь нет противоречия. Петр I, разумеется, понимал, что приставив в фельдмаршалу сержанта-контролера, он наносит глубокую обиду, ставя родовитого полководца в совершенно унизительное положение. Но этот царь не был склонен щадить чувства подданных в ущерб интересам дела. А в данном случае они, по его мнению, требовали присутствия государева ока в ставке военачальника. Ведь Шереметев опять получал единоначалие, да еще в столь дальнем походе войск. С другой стороны, такое жесткое, если не грубое, обращение с фельдмаршалом контрастирует с приводившимися выше примерами бережного отношения к нему государя.
(с. 41)Поэтому Петр I, все в тех же интересах дела, счел бы разумным уврачевать самолюбие Шереметева каким-то необременительным для казны жестом. Таким, как возведение Шереметева в графское достоинство. Что и случится, но уже после астраханского дела. А в 1705 году, перед выступлением в поход фельдмаршала с сержантом за спиною, таким жестом как раз и могло быть повеление Шхонебеку гравировать парадный портрет выступающего Бориса Петровича.
Нельзя оставить без внимания и то, каким изобразил художник сержанта Михаила Щепотьева. Представление гвардейца, облеченного доверием государя, в столь непрезентабельном виде с очевидностью выдавало истинное отношение художника —не к самому бравому гвардейцу, а к его государевой миссии. И свидетельствовало либо о простодушном незнании московских реалий, либо о предерзостной смелости уверенного в себе "амстердамца", граничащей с безрассудной бравадой. Быть может, и о том, и о другом. Или о том, что Иван Никитин, с упоминавшимся высокомерием молодости, не верил, что кто-то сможет увидеть и расшифровать его призрачные фантомы. Вот она, важнейшая черта характера Ивана Никитина, которая смягчится со временем, но все же предопределит его судьбу. Наконец, следует удивиться осведомленности художника в подоплеке решений самого государя. Вряд ли Шхонебек, иноземный учитель гравирования в Оружейной палате, был столь вхож в область российских государственных решений. А если бы и донесся до него какой слух, то пять лет, проведенных им в суровой Московии, должны были научить гравера элементарной осмотрительности. Иное дело —самоуверенный Ивана Никитина, племянник кремлевского священника Петра Васильева. Тот, бывший многие годы духовником царя, был принимаем, несомненно, старомосковской знатью.
Многоопытный и мудрый, он, конечно, мог обрисовать юному художнику всю сложность личности боярина Шереметева, как и пикантность положения фельдмаршала в моменте отправления в поход. С другой стороны, старый священник, увидев рисунок к гравюре, должен был бы призвать европеизированного возвращенца к московской благоразумной осторожности. Не по этой ли причине доска носит на себе следы стирания во второй строке надписи внизу, на которое указал Д.А. Ровинский52? В том самом месте, где обычно располагается текст легенды гравюры, видны точечные следы верхней и нижней границ стертых надписей. А при еще более внимательном исследовании нижнего поля гравюры можно заподозрить следы стирания и ниже, под строкой "генералъ-фелть моршалка и ковалер", и вправо он нее, к углу, под строкой "Повелением црскаго Величества. Тушевалъ На москве Адриан шхонбек". То есть там, где обычно указывают имена создателей гравюры. Вряд ли можно объяснить сей уникальный феномен иначе, чем самоцензурой гравера.
Но даже в отредактированном виде трудно представить себе этот лист в качестве экзаменационной работы, которую было бы благоразумно предъявить проницательному государю. Зато вторая из упоминавшихся выше гравюр, созданных по повелению монарха—портрет самого Петра I, отлично подошла бы к этой роли.
1.11. Гравированный портрет Петра I (с. 42-48)
(с. 42)Один экземпляр гравированного портрета Петра I хранится в Отделе эстампов РНБ (Ил. 11).

Ил. 11. Гравированный портрет Петра I. РНБ. Э 22972 Из собр. А. Я. Лобанова — Ростовского.
Это вторая, наряду с портретом Б. П. Шереметева, из известных работ Адриана Шхонебека, имеющая надпись о том, что гравюра создана по личному повелению Петра I. Как и на "портрете" Б. П. Шереметева, на данном листе есть лаконичная надпись: "Грыдоровал Андриан Шхонебек". Как видим, Шхонебек и тут не претендует на авторство композиции, только на выполнение технической стороны работы. Значит, рисунок к гравюре выполнил кто-то другой. Кто же?
Разве мог опытный голландец доверить определяющую часть работы в столь важном, если не чрезвычайном, заказе любому из своих учеников, тем же молодым братьям Зубовым или пасынку Питеру Пикарту?
Для того, чтобы составить суждение о настоящем авторе композиции на листе, опять начнем с установления года ее создания. Казалось бы, что в отличие от портрета Шереметева, в данном случае ответ лежит на поверхности листа: в правой его части видна картина бомбардировки кораблями какой-то крепости. Это, как будто, свидетельствует о том, что вещь создана вскоре взятия Азова в 1696 году. Значит, она никак не может быть творением Ивана Никитина, как, впрочем, и Адриана Шхонебека.
Но на гравюре есть детали, не только опровергающие это заключение, но и позволяющие установить правильную датировку. Прежде всего, царь держит скипетр у его верха, как полководческий жезл. Петр I не мог распорядится гравировать свой портрет ранее мая 1703 г., времени своего награждения орденом Андрея Первозванного. Он, как известно, отказывался принимать эту награду до крупной военной победы под его собственным командованием.
Но это не все. Д. А. Ровинский, описывая изображение на данной гравюре, мельком упомянул как второстепенный следующий факт: "за фигурой Петра видна голова арапа". Но нет известий, что какой-либо "арап-басурман" сыграл в азовских баталиях столь видную роль, чтобы единственному оказаться одесную православного государя на его парадном портрете. К тому же на гравюре вовсе не "арап", а маленький арапчонок с курчавой головой.
И у него есть имя —Ибрагим. С ним много возился царь, он получил отчество Петрович по имени крестившего его государя. В 1704–705 годах его имя было широко на слуху, на него, отпрыска знатного "арапского" рода, освобожденного из басурманского пленения, глазела вся Москва. На данном листе черты его мальчишеского лица с по-африкански широкими ноздрями вполне различимы, так что создатель рисунка, быть может, сохранил для нас образ юного "арапа Петра Великого"53. Только такой "арапский" персонаж уместен на парадном представлении победы, придавая ей вселенское звучание христианского торжества над неверными. Ведь Ибрагим действительно был сыном чернокожего африканского князя, вассала турецкого султана. Его, семилетнего, в 1703 году османы захватили в плен и отправили в (с. 44)султанский дворец в Константинополе. В следующем, 1704 году перешедший на русскую службу "иллирийский шляхтич" Сава Владиславич, назвавший себя в России Саввой Рагузинским, привёз его на корабле в Азов. Несколько позже, в Москве, мальчик был торжественно крещен в веру православную.
Внимание, которое уделил царь "арапскому" княжичу, имело глубокую причину. Россия со времен Великого посольства подчеркивала при европейских дворах освободительную миссию христианской Московии, взявшей в 1696 гоу Азов. Самого Петра I необычайно воодушевляла идея борьбы России и других христианских стран Европы с мусульманской Турцией. Вот и той единственной гравюре, что самолично вырезал Петр I в Амстердаме в 1698 году под наблюдением Шхонебека, он дал название "Победа христианства над исламом". (На листе изображен крылатый ангел, осененный лучами солнца, он стоит на мусульманском полумесяце).
В этом контексте понятен тот размах, который придал Петр I событиям вокруг вызволения русским эмиссаром в Стамбуле чернокожего мальчика, его приезду в Москву и, главное, переходу в православную веру. Символический смысл, вложенный автором рисунка в изображение головы арапчонка —рядом с крестом на российской короне и под защитой державно откинутой государевой длани —был очевиден современникам.
А тут еще подоспела славная годовщина: десятилетие крымской кампании, начавшейся в 1695 году. Вот этому событию, по всей вероятности, и должен был быть посвящен тираж оттисков с данной доски. Ведь в 1705 году юбилейазовских побед над "басурманами" как нельзя лучше резонировал с духоподъемными празднованиями взятия Дерпта и Нарвы —обе виктории над шведом добыты под личным водительством государя.
Господствовавшее в те годы ощущение вселенской битвы со злом одновременно на двух границах, на севере и на юге, передают вирши того времени:
"Пес турский и шведский выет,
А царь Московский обоих по главе биет".
Из суммы приведенных фактов вытекает датировка данного офорта—1705 год54. Установив смысл композиции, отметим, что и на этой гравюре, как и на портрете Б. П. Шереметева, присутствует никитинский метод развития сюжета путем введения "арапа", явно знакового персонажа. Но на этом рисунке присутствуют и фантомные образы. Выясняя их смысл, следует иметь в виду, что Иван Никитин при создании рисунка к гравюре с образом самого царя был, конечно, более стеснен в своем воображении, чем в работе над портретом фельдмаршала.
На первом плане, на столе —российская корона с крестом в навершии. Над ней, на драпировке — "фантом" российского орла. Но он не в привычной гербовой ипостаси. Перед зрителем не абстрактный символ, а действующее лицо сюжета. Орел этот —в полете, он как будто яростно атакует в свирепом, стремительном порыве с хищно разинутым клювом.
(с. 45)И вот тут —начинается непонятное, а значит, интригующее. Кто есть на драпировке объект орлиной атаки, кто враг-супостат, где его символ —оброненная чалма или поверженный полумесяц? Врага нет. Хищник атакует пустоту. Только слева вверху, над орлиным крылом, виден какой-то округлый предмет. Орел его то ли отбросил крылом, то ли разминулся с ним в пролете. А образ этот символичен: он имеет в навершии крест. Значит, мы видим картинку уже иной войны, не с османами. И объект над орлиным крылом есть корона государя христианского, причем вражеского: все регалии русской короны внизу, на столе.
Вторым врагом, помимо султана, тогда мог быть один швед. Но вопросы только множатся. Они теперь —к орлу. Так ли уж рьяно атакует птица пустоту? Как будто она и в самом деле уже промахнулась мимо цели. Повыдохлась в порыве. И корона на ее голове какая-то потраченная, и язык ее висячий. Посмотрим на корону шведа. Ее примечательная форма отличается от гербовой шведской Королевской регалии с большими пустотами. Она соответствует той, что известна как корона Эрика XIV (ил. 12).

Ил. 12. Корона Эрика XIV.
